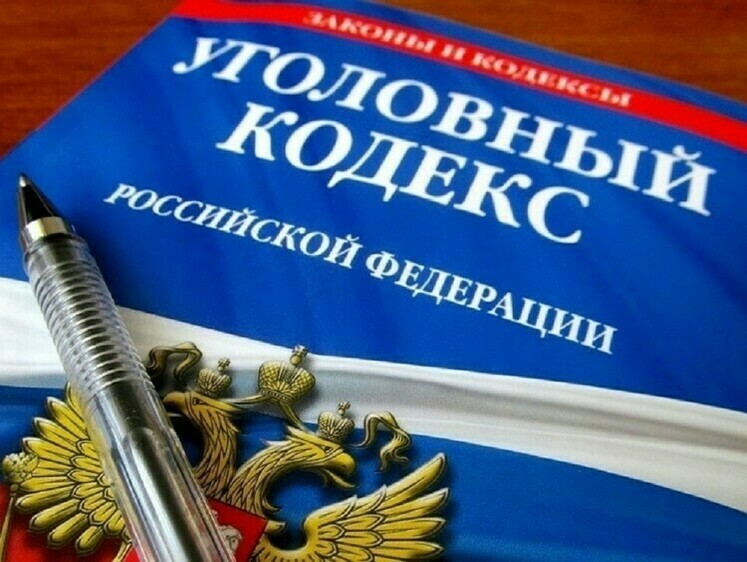Я часто вспоминаю замечательный фильм Георгия Данелии «Осенний марафон». Во-первых, потому что была лично хорошо знакома с Норбертом Кухинке, сыгравшим того самого датского профессора Хансена (это был чудесный человек, талатливый немецкий журналист, который искренне и горячо любил Россию), ну а во-вторых, сам фильм уж слишком жизненный. Помните, там была сцена, когда из «трезвевателя» тот самый Билл сказал следующее: «Там было много новых слов. Это может быть интересно».
В летне-осенний марафон
Да, погода нам спутала все карты и ты уже не можешь с уверенностью сказать: то ли осень за окном, то ли лето… но дорога манит, и дабы отойти от гонки за дедлайном, да и просто переключиться от бесконечных интриг, расследований и сенсаций, я снова отправляюсь в путешествие, в летне-осенний марафон. Мой путь лежит к чудесному городку на Оке, который манит своей провинциальной тишиной и каким-то теплым, добрым уютом. Итак, мы едем в Тарусу.
Знаете, когда основательно села за руль, то я, как тот самый датский профессор из «Осеннего марафона», тоже узнала очень много «новых слов». От кого их только не слышала: и от мужа, в первое время выступавшего в качестве моего инструктора по вождению, и от некоторых приятелей, тоже автолюбителей, которые иногда с определенным риском для собственной безопасности становились моими пассажирами, ну и, конечно же, от некоторых водителей — иногда те даже не утруждали себя открывать окно, чтобы крикнуть в мой адрес какое-нибудь крепкое словечко…. Признаться честно, по началу сильно переживала и по своей скорпионьей привычке (а меня угораздило родиться под созвездием скорпиона) я начинала заниматься самоедством, выгрызая изнутри всю саму себя. Однако, когда приобрела неплохой водительский опыт, до меня наконец дошло, что увесистое словцо у водителя, все равно что кондиционер: выпустил пар, охладился и едешь себе преспокойно дальше.
Увы, верно гласит народное наблюдение: дурное дело — не хитрое, потому на путь заправского водилы я встала слишком скоро. Даже вынуждена с прискорбием признать, что к услугам того самого «кондиционера» приходилось прибегать довольно часто (воспитанных водителей у нас же не так-то и много, как этого хотелось бы). Но в один прекрасный день, осознавая, как мой внутренний мир вдруг стал тускнеть, бледнеть, наполняясь какими-то дешевыми ценностями, а также понимая, что от словесной перебранки культуры на дороге больше не станет, я сказала самой себе: «Хватит! И если хочешь видеть вежливых и воспитанных водителей на своем пути, то начни с самой себя».
Да, даже случайно оброненное слово оставляет след и в человеческих взаимоотношениях, след в истории. И это только кажется, что оно ничего не значит: слово и убивает, слово и животворит. Помните, у Анны Ахматовой были такие строки, которые очень точно и емко передают всю суть выше сказанного:
«И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова.
Справлюсь с этим как-нибудь».
Колыбель литераторов…
Жить словом, дышать словом… Как это? Наверное лучше всего об этом знают поэты, писатели, и журналисты. И многие со мной согласятся, что то самое Слово, впитавшее в себя мудрость и глубокий скрытый смысл, зачастую рождается в молчании, в торжественной тишине. Наверное, именно поэтому Таруса стала той самой колыбелью для многих творцов: Марина Цветаева, Константин Паустовский, Николай Заболоцкий, Алексей Толстой, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, а также Иосиф Бродский, Александр Гинзбург, Александр Солженицын и многие другие знаменитые имена — все они искали уединение, творческое вдохновение в маленьком, отдаленном городке Калужской губернии.
Таруса… Этот небольшой старинный городок расположен на левом высоком берегу Оки, в 36 км от Серпухова. Добраться сюда можно только по воде, на автобусе (который ходит крайне редко) или же на автомобиле. Наверное, благодаря той самой отрезанности от большого мира и удалось здесь сохранить старинную удивительную самобытность, и наверное поэтому, когда я прогуливаюсь по аккуратненьким улочкам с одноэтажными домиками XIX столетия, мне кажется, что являюсь персонажем «Губернских очерков» Салтыкова-Щедрина. Благодаря сохранившемуся уникальному образу, Тарусе присвоен статус природно-архитектурного заповедника, а сам город внесен в перечень исторических городов России. «Я живу в одном маленьком городе на Оке. Он так мал, что все его улицы выходят или к реке с её плавными и торжественными поворотами, или в поля, где ветер качает хлеба, или в леса, где по весне буйно цветет между берез и сосен черемуха…», — напишет Константин Паустовский.
Низенький синий домик с белым кружевом ставень и оконных рам — именно здесь с 1957 по 1968 год жил и создавал свои произведения, проникнутые любовью к родине, Константин Георгиевич Паустовский. Сегодня дом-музей имеет статус памятника культуры федерального значения и потому каждый желающий может увидеть личные вещи писателя, посетить его рабочий кабинет, где находится письменный стол автора, его пишущая машинка, и конечно же, любимые книги, принадлежавшие Паустовскому. Среди реликвий и фотография Марлен Дитрих, которую актриса лично подарила Константину Георгиевичу — актриса была ярой почитательницей его творчества.
Константин Георгиевич был влюблен в Тарусу, беззаветно предан ей. Практически каждый день он купался в красоте ее природы, гуляя то по маленьким улочкам города, то по лесным окрестностям. Старожилы и вовсе рассказывают, что частенько он ловил рыбу на Оке. И каждый раз с берега к нему в лодку приплывал черный кот. Когда он влезал в лодку к писателю, то получал от него свежую рыбу.
…и палитра художников
А совсем недалеко (здесь все находится рядом, словно на расстоянии вытянутой руки) располагается не менее известный музей в Тарусе — музей семьи Цветаевой, являющийся филиалом Калужского областного краеведческого музея. Здесь на экспозиции представлены вещи, принадлежавшие Цветаевым.
В Тарусе Цветаевых называли первыми дачниками, так как именно после них пошла мода переезда сюда москвичей на лето. Марину привезли первый раз в город на Оке, когда ей еще не исполнилось и года. Таруса стала первой и главной любовью поэтессы, и где бы она ни была, в каких только уголках не останавливалась, всегда вспоминала Тарусу:
«Детство, верни нам, верни
Все разноцветные бусы,—
Маленькой, мирной Тарусы
Летние дни».
Именно здесь, в Тарусе, под так называемым Мусатовским косогором, где располагается могила Борисова-Мусатова, в 1988 году был установлен кенотаф Марины Цветаевой — памятный знак. На этом самом месте Марина Цветаева хотела найти свой последний приют, но не сложилось… А в 2006-м на берегу Оки рядом с Петропавловским собором накануне 100-летия Марины Ивановны, по инициативе другой поэтессы современности, Беллы Ахмадулиной, был открыт памятник поэтессе (скульптор В. Соскиев, архитектор Б. Мессерер).
«Хорошо, что наяву мы обретаем изображение ее силуэта. Я уверена, что многим людям это принесет утешение во дни печали, или вдохновение во дни любви или творчества», — скажет Белла Ахатовна на открытии памятника. Но и сама Белла Ахмадулина разделяет любовь с Цветаевой к Тарусе. Она находит здесь и утешение, и вдохновение.
«Лучший ее цикл, я считаю, это «101-й километр», — говорит писатель Евгений Попов. — Создан был здесь, в Тарусе. Не было бы счастья, да несчастье помогло. После разгромов всех начала 80-х, она переехала сюда и стала писать новые стихи. Изысканная Ахмадулина, кружевная вязь и некрасовские строки. Так что я этот цикл люблю, и Тарусу с ее помощью полюбил».
Слова, слова, снова слова… Здесь, в Тарусе, в первых числах октября проводятся «Цветаевские чтения», а в самом музее устраиваются цветаевские детские фестивали, литературно-музыкальные гостиные, тематические занятия. А еще на маленьких улочках города можно встретить мини-бибилиотеки. «Приятного прочтения и полезного обмена, дорогой книголюб!» можно прочитать на своеобразной «пояснительной записке» на домике с книжками.
Но не только писатели и поэты находят в живописных пейзажах Тарусы свой источник вдохновения. С конца XIX века город стал популярным местом отдыха среди живописцев, а с лёгкой руки художников Василия Поленова и Василия Ватагина её и вовсе прозвали «русским Барбизоном». Сюда потянулось множество деятелей культуры: Борисов-Мусатов, Виноградовы, а также, как уже рассказывалось выше, Поленовы, Цветаевы и многие-многие другие известные и безызвестные люди.
За тарусским мрамором
Виды тарусских берегов можно увидеть на знаменитых полотнах Василия Поленова. Художник настойчиво повторяет и повторяет мотив реки в работе «Ранний снег», 1891 года и «Золотая осень» 1893 года. Сегодня эти картины можно увидеть в Государственной Третьяковской галерее и в Государственном историко-художественном и природном музее-заповеднике В.Д.Поленова. Кстати, именно из известняка Тарусского района строил свой дом Василий Дмитриевич, который он называл «тарусским мрамором», и это не просто красивые слова. Действительно, из этого камня построены многие здания (цокольные части и этажи) в Москве и Серпухове, а по прочности и лёгкости обработки местный известняк не уступает мрамору.
...Приехала в Тарусу утром, а уже сумерки окрашивают своей акварелью и небо, и воды Оки. И, кажется, что время здесь остановилось. Находясь вдалеке от редакторской ответственности, от гонки за сдачей очередного номера в печать, ну, соответственно, от тех самых интриг, сенсаций, расследований, ты снова обретаешь саму себя, находя в своем подсознании забытые, но такие прекрасные слова, как созерцание, умиротворение, одухотворенность. Да и вообще, в этой тишине понимаешь, с каким уважением нужно относиться друг к другу, и конечно же, в том числе, и к участникам движения. Как там писал Булат Окуджава, судьба которого тоже была переплетена с Тарусой:
«Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.»
Дорога… дорога навстречу дому, навстречу читателям, навстречу Слову. И что может быть ответственнее и почетнее? В путь!